
⚡️ Заказывайте в AI-каталоге — получайте скидку!
5% скидка на размещения в каналах, которые подобрал AI. Промокод: TELEGA-AI
Подробнее
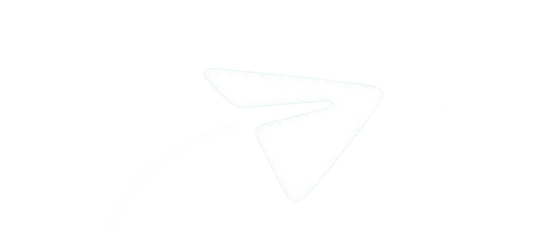
РегистрацияВойтиВойти
Скидка 3,5% на первые три заказа
Получите скидку на первые три заказа!
Зарегистрируйтесь и получите скидку 3,5% на первые рекламные кампании — промокод активен 7 дней.
7.1
Воздушные избы
Телеграм-канал Гавра Малышева об антропологии архитектуры и архитекторов. (а еще об урбанистике, городах, деревнях, и, конечно, об избах, которые автор субъективно считает величайшими сооружениями человечества)
Поделиться
В избранное
Купить рекламу в этом канале
Формат:
keyboard_arrow_down
- 1/24
- 2/48
- 3/72
- Нативный
- 7 дней
- Репост
1 час в топе / 24 часа в ленте
Количество:
%keyboard_arrow_down
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 10
- 15
Стоимость публикации:
local_activity
6 993.00₽6 993.00₽local_mall
0.0%
Осталось по этой цене:0
Последние посты канала
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Книжки мои книжечки: покупайте "Круги капрома" у автора
___
Мы с Даней и Сашей написали если не лучшую, то точно самую кринжовую книжку про постсоветскую архитектуру. Там великолепные фотографии капрома от Чечни до Чукотки; комикс, который можно разглядывать бесконечно; ну и тексты, написанные с чрезвычайным любопытством и нескрываемым самолюбованием!
Если вы всё еще сомневаетесь, нужна ли она вам, почитайте
1) Разгромную рецензию на "Горьком"
2) Отрывок из книги на "Собаке"
3) Выдержки у "Влесах"
И главное — приобрести книгу можно у меня: с автографом и пожеланием. С помощью авито-доставки я отправлю вам "Круги капрома" в любую точку страны, заказывайте по ссылке на АВИТО.
Стоит книга 2500, которые пойдут на поддержку жизнедеятельности "Воздушных изб". Экземпляров в наличии совсем немного!
UPD: книжки распроданы, по наличию обращайтесь в ЛС
___
Мы с Даней и Сашей написали если не лучшую, то точно самую кринжовую книжку про постсоветскую архитектуру. Там великолепные фотографии капрома от Чечни до Чукотки; комикс, который можно разглядывать бесконечно; ну и тексты, написанные с чрезвычайным любопытством и нескрываемым самолюбованием!
Если вы всё еще сомневаетесь, нужна ли она вам, почитайте
1) Разгромную рецензию на "Горьком"
2) Отрывок из книги на "Собаке"
3) Выдержки у "Влесах"
И главное — приобрести книгу можно у меня: с автографом и пожеланием. С помощью авито-доставки я отправлю вам "Круги капрома" в любую точку страны, заказывайте по ссылке на АВИТО.
Стоит книга 2500, которые пойдут на поддержку жизнедеятельности "Воздушных изб". Экземпляров в наличии совсем немного!
UPD: книжки распроданы, по наличию обращайтесь в ЛС
Книжки мои книжечки: покупайте "Круги капрома" у автора
___
Мы с Даней и Сашей написали если не лучшую, то точно самую кринжовую книжку про постсоветскую архитектуру. Там великолепные фотографии капрома от Чечни до Чукотки; комикс, который можно разглядывать бесконечно; ну и тексты, написанные с чрезвычайным любопытством и нескрываемым самолюбованием!
Если вы всё еще сомневаетесь, нужна ли она вам, почитайте
1) Разгромную рецензию на "Горьком"
2) Отрывок из книги на "Собаке"
3) Выдержки у "Влесах"
И главное — приобрести книгу можно у меня: с автографом и пожеланием. С помощью авито-доставки я отправлю вам "Круги капрома" в любую точку страны, заказывайте по ссылке на АВИТО.
Стоит книга 2500, которые пойдут на поддержку жизнедеятельности "Воздушных изб". Экземпляров в наличии совсем немного!
UPD: книжки распроданы, по наличию обращайтесь в ЛС
___
Мы с Даней и Сашей написали если не лучшую, то точно самую кринжовую книжку про постсоветскую архитектуру. Там великолепные фотографии капрома от Чечни до Чукотки; комикс, который можно разглядывать бесконечно; ну и тексты, написанные с чрезвычайным любопытством и нескрываемым самолюбованием!
Если вы всё еще сомневаетесь, нужна ли она вам, почитайте
1) Разгромную рецензию на "Горьком"
2) Отрывок из книги на "Собаке"
3) Выдержки у "Влесах"
И главное — приобрести книгу можно у меня: с автографом и пожеланием. С помощью авито-доставки я отправлю вам "Круги капрома" в любую точку страны, заказывайте по ссылке на АВИТО.
Стоит книга 2500, которые пойдут на поддержку жизнедеятельности "Воздушных изб". Экземпляров в наличии совсем немного!
UPD: книжки распроданы, по наличию обращайтесь в ЛС
1830
10:42
15.05.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
От яранги — до коттеджа: динамика отношений между коренными жителями Чукотки и государством
через призму архитектуры
____
Ура-ура, в новом номере "Сибирских исторических исследований" вышла моя научная статья!
В ней я (впервые!) пытаюсь обобщить архитектурную историю Чукотки. Это удивительный сюжет встречи двух строительных культур: коренной (чукчей и эскимосов) и колониальной европейской (русских и американцев). Мне было интересно проследить, как местная вернакулярная архитектура оказалась (почти) полностью, без следа вытеснена — и подумать о том, были ли у неё шансы.
И особенно любопытным оказалось открытие, что да — были! В начале XX века этнографы-североведы Штернберг и Богораз предостерегали об опасности быстрого и массового развертывания советской инфраструктуры на Чукотке. И первые годы советской власти к ним прислушивались!
Еще одна неизвестная тупиковая ветка — о том, как в позднесоветские годы начал было зарождаться местный модернизм: домостроительные комбинаты Чукотки пытались не просто штамповать типовые проекты, но разрабатывать что-то своё, с опорой на местные материалы (и с веселым декором).
Ну и отдельный прикол — как о принудительной избофикации Чукотки пишут советские этнографы. В их нарративах образ сельского жителя рисуется двойственным: с одной стороны, это 'отсталый туземец', которого советская власть облагодетельствовала, вырвала из антисанитарии яранг; с другой — это сознательный и рукастый знаток своей земли, который понимает в строительстве на ней больше приезжих мастеров, и в состоянии сам исправить недостатки архитектурного проекта.
В общем, что пересказывать — читайте статью, смотрите мою презентацию с нарытыми по архивам картинками! И фантазируйте о том, как всё могло бы сложиться иначе.
через призму архитектуры
____
Ура-ура, в новом номере "Сибирских исторических исследований" вышла моя научная статья!
В ней я (впервые!) пытаюсь обобщить архитектурную историю Чукотки. Это удивительный сюжет встречи двух строительных культур: коренной (чукчей и эскимосов) и колониальной европейской (русских и американцев). Мне было интересно проследить, как местная вернакулярная архитектура оказалась (почти) полностью, без следа вытеснена — и подумать о том, были ли у неё шансы.
И особенно любопытным оказалось открытие, что да — были! В начале XX века этнографы-североведы Штернберг и Богораз предостерегали об опасности быстрого и массового развертывания советской инфраструктуры на Чукотке. И первые годы советской власти к ним прислушивались!
"Если заимствование из одной культуры в другую происходит не механически, а сопровождается сознательным усилием по творческому усвоению, то оно обогащает и развивает заимствующую культуру" (Штернберг, 1920)Путь инфраструктуры чукотских поселений от полного самообеспечения до полной зависимости от внешних централизованных поставок не был линейным, и не был предопределён! Были периоды, когда архитектура развивалась путем творческого обмена и адаптации: чего стоят одни только избо-яранги Свиньина, или норвежская яранга Бена Волла.
Еще одна неизвестная тупиковая ветка — о том, как в позднесоветские годы начал было зарождаться местный модернизм: домостроительные комбинаты Чукотки пытались не просто штамповать типовые проекты, но разрабатывать что-то своё, с опорой на местные материалы (и с веселым декором).
Ну и отдельный прикол — как о принудительной избофикации Чукотки пишут советские этнографы. В их нарративах образ сельского жителя рисуется двойственным: с одной стороны, это 'отсталый туземец', которого советская власть облагодетельствовала, вырвала из антисанитарии яранг; с другой — это сознательный и рукастый знаток своей земли, который понимает в строительстве на ней больше приезжих мастеров, и в состоянии сам исправить недостатки архитектурного проекта.
В общем, что пересказывать — читайте статью, смотрите мою презентацию с нарытыми по архивам картинками! И фантазируйте о том, как всё могло бы сложиться иначе.
От яранги — до коттеджа: динамика отношений между коренными жителями Чукотки и государством
через призму архитектуры
____
Ура-ура, в новом номере "Сибирских исторических исследований" вышла моя научная статья!
В ней я (впервые!) пытаюсь обобщить архитектурную историю Чукотки. Это удивительный сюжет встречи двух строительных культур: коренной (чукчей и эскимосов) и колониальной европейской (русских и американцев). Мне было интересно проследить, как местная вернакулярная архитектура оказалась (почти) полностью, без следа вытеснена — и подумать о том, были ли у неё шансы.
И особенно любопытным оказалось открытие, что да — были! В начале XX века этнографы-североведы Штернберг и Богораз предостерегали об опасности быстрого и массового развертывания советской инфраструктуры на Чукотке. И первые годы советской власти к ним прислушивались!
Еще одна неизвестная тупиковая ветка — о том, как в позднесоветские годы начал было зарождаться местный модернизм: домостроительные комбинаты Чукотки пытались не просто штамповать типовые проекты, но разрабатывать что-то своё, с опорой на местные материалы (и с веселым декором).
Ну и отдельный прикол — как о принудительной избофикации Чукотки пишут советские этнографы. В их нарративах образ сельского жителя рисуется двойственным: с одной стороны, это 'отсталый туземец', которого советская власть облагодетельствовала, вырвала из антисанитарии яранг; с другой — это сознательный и рукастый знаток своей земли, который понимает в строительстве на ней больше приезжих мастеров, и в состоянии сам исправить недостатки архитектурного проекта.
В общем, что пересказывать — читайте статью, смотрите мою презентацию с нарытыми по архивам картинками! И фантазируйте о том, как всё могло бы сложиться иначе.
через призму архитектуры
____
Ура-ура, в новом номере "Сибирских исторических исследований" вышла моя научная статья!
В ней я (впервые!) пытаюсь обобщить архитектурную историю Чукотки. Это удивительный сюжет встречи двух строительных культур: коренной (чукчей и эскимосов) и колониальной европейской (русских и американцев). Мне было интересно проследить, как местная вернакулярная архитектура оказалась (почти) полностью, без следа вытеснена — и подумать о том, были ли у неё шансы.
И особенно любопытным оказалось открытие, что да — были! В начале XX века этнографы-североведы Штернберг и Богораз предостерегали об опасности быстрого и массового развертывания советской инфраструктуры на Чукотке. И первые годы советской власти к ним прислушивались!
"Если заимствование из одной культуры в другую происходит не механически, а сопровождается сознательным усилием по творческому усвоению, то оно обогащает и развивает заимствующую культуру" (Штернберг, 1920)Путь инфраструктуры чукотских поселений от полного самообеспечения до полной зависимости от внешних централизованных поставок не был линейным, и не был предопределён! Были периоды, когда архитектура развивалась путем творческого обмена и адаптации: чего стоят одни только избо-яранги Свиньина, или норвежская яранга Бена Волла.
Еще одна неизвестная тупиковая ветка — о том, как в позднесоветские годы начал было зарождаться местный модернизм: домостроительные комбинаты Чукотки пытались не просто штамповать типовые проекты, но разрабатывать что-то своё, с опорой на местные материалы (и с веселым декором).
Ну и отдельный прикол — как о принудительной избофикации Чукотки пишут советские этнографы. В их нарративах образ сельского жителя рисуется двойственным: с одной стороны, это 'отсталый туземец', которого советская власть облагодетельствовала, вырвала из антисанитарии яранг; с другой — это сознательный и рукастый знаток своей земли, который понимает в строительстве на ней больше приезжих мастеров, и в состоянии сам исправить недостатки архитектурного проекта.
В общем, что пересказывать — читайте статью, смотрите мою презентацию с нарытыми по архивам картинками! И фантазируйте о том, как всё могло бы сложиться иначе.
2690
18:07
19.05.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Open-call: Птицы в городе — город как межвидовое пространство
Тематический номер журнала «Городские исследования и практики»
Приглашённые редакторы номера – Марк Мефёд (независимый исследователь), Марат Невлютов, к. арх. (МАРШ).
Образ птиц в городе долгое время оставался либо в тени утилитарного подхода к «урбанистическому биоразнообразию», либо попадал в символическую область: как метафора свободы, как элемент фоновой среды или как «экологическая единица» в логике городского управления. Однако в последние десятилетия благодаря развитию исследований в области human-animal studies и critical animal studies птицы — и особенно птицы как агенты городской жизни — становятся самостоятельным предметом исследования.
Птицы в городе — это не просто элементы городской экосистемы, а активные участники межвидовой жизни, способные оспаривать границы между «дикой» природой и урбанистическим порядком. Исследования в области human-animal studies и critical animal studies показывают, что отношения между людьми и птицами в городской среде не сводятся к наблюдению или контролю. Они всегда нечто большее — отношения взаимной адаптации, конфликтов, игнорирования и заботы. Птицы могут становиться видимыми, когда нарушают нормы городской чистоты или тишины, становясь объектами экологических дебатов, и в то же время — глубоко незаметными, когда вписываются в символический и политический порядок. Их присутствие в городе заново ставит вопросы, касающиеся этики сосуществования, биополитики городской среды, права на городское пространство, а также проблему возможности развития городской среды, в которой учитываются не только человеческие интересы, но и опыт, уязвимость и агентность других видов.
Номер, который мы готовим, предлагает посмотреть на город как на межвидовое пространство, где птицы — не просто объекты наблюдения, но соучастники, свидетели, «со-обитатели» (co-inhabitants) и даже потенциальные политические субъекты. Нас интересует то, как птицы влияют на урбанистический ландшафт, как их существование становится предметом конфликтов или заботы, как они формируют человеческие или нечеловеческие практики, знания и аффекты.
Мы приглашаем авторов, работающих в рамках междисциплинарного подхода — от урбанистики, (критических) исследований животных, философии и экологии до STS, культурной и визуальной антропологии, архитектуры и социологии — присылать тексты, связанные с:
– птицами как фигурами городской политики и биополитики;
– вопросами видимости / невидимости птиц в городской среде;
– этикой заботы;
– конфликтами между дикой природой и урбанистическим порядком;
– методологическими подходами к исследованию животных в городе;
– визуальной культурой и репрезентациями птиц;
– архитектурой и урбанистикой, учитывающими (или исключающими) птиц.
Полные тексты ждем к 1 сентября 2025 года на мейлы – fleainmyhead@gmail.com, mnevlyutov@gmail.com, предварительно до 1 июня 2025 года готовы рассмотреть резюме текстов до 300 слов, чтобы согласовать тему и направление статьи.
Публикация номера планируется в декабре-феврале 2025-2026 гг.
Журнал включён в список рекомендованных ВШЭ, ВАК — в процессе согласования.
В оформлении использована картина Andrew Tilsley 'Shooting Party'.
Тематический номер журнала «Городские исследования и практики»
Приглашённые редакторы номера – Марк Мефёд (независимый исследователь), Марат Невлютов, к. арх. (МАРШ).
Образ птиц в городе долгое время оставался либо в тени утилитарного подхода к «урбанистическому биоразнообразию», либо попадал в символическую область: как метафора свободы, как элемент фоновой среды или как «экологическая единица» в логике городского управления. Однако в последние десятилетия благодаря развитию исследований в области human-animal studies и critical animal studies птицы — и особенно птицы как агенты городской жизни — становятся самостоятельным предметом исследования.
Птицы в городе — это не просто элементы городской экосистемы, а активные участники межвидовой жизни, способные оспаривать границы между «дикой» природой и урбанистическим порядком. Исследования в области human-animal studies и critical animal studies показывают, что отношения между людьми и птицами в городской среде не сводятся к наблюдению или контролю. Они всегда нечто большее — отношения взаимной адаптации, конфликтов, игнорирования и заботы. Птицы могут становиться видимыми, когда нарушают нормы городской чистоты или тишины, становясь объектами экологических дебатов, и в то же время — глубоко незаметными, когда вписываются в символический и политический порядок. Их присутствие в городе заново ставит вопросы, касающиеся этики сосуществования, биополитики городской среды, права на городское пространство, а также проблему возможности развития городской среды, в которой учитываются не только человеческие интересы, но и опыт, уязвимость и агентность других видов.
Номер, который мы готовим, предлагает посмотреть на город как на межвидовое пространство, где птицы — не просто объекты наблюдения, но соучастники, свидетели, «со-обитатели» (co-inhabitants) и даже потенциальные политические субъекты. Нас интересует то, как птицы влияют на урбанистический ландшафт, как их существование становится предметом конфликтов или заботы, как они формируют человеческие или нечеловеческие практики, знания и аффекты.
Мы приглашаем авторов, работающих в рамках междисциплинарного подхода — от урбанистики, (критических) исследований животных, философии и экологии до STS, культурной и визуальной антропологии, архитектуры и социологии — присылать тексты, связанные с:
– птицами как фигурами городской политики и биополитики;
– вопросами видимости / невидимости птиц в городской среде;
– этикой заботы;
– конфликтами между дикой природой и урбанистическим порядком;
– методологическими подходами к исследованию животных в городе;
– визуальной культурой и репрезентациями птиц;
– архитектурой и урбанистикой, учитывающими (или исключающими) птиц.
Полные тексты ждем к 1 сентября 2025 года на мейлы – fleainmyhead@gmail.com, mnevlyutov@gmail.com, предварительно до 1 июня 2025 года готовы рассмотреть резюме текстов до 300 слов, чтобы согласовать тему и направление статьи.
Публикация номера планируется в декабре-феврале 2025-2026 гг.
Журнал включён в список рекомендованных ВШЭ, ВАК — в процессе согласования.
В оформлении использована картина Andrew Tilsley 'Shooting Party'.
1830
17:56
21.05.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Петребургизация Петербурга. Мои поздравления Лахта-центру и его городу
__
Мой родной город отмечает сегодня свой день! В честь этого я хочу выступить с unpopular opinion: я обожаю Лахта-центр, и считаю, что это невероятно петербургский по духу проект.
***
Что может быть лучшим выражением комплекса провинциальности бывшей столицы, чем самый-высокий-небоскреб-Европы? Петербург никогда не был "good enough" в глазах его жителей: это наша милая попытка убедить самих себя в том, что мы — европейцы, в которой за снобизмом прячется неуверенность. Лахта-центр — это сигарета во рту подростка, желающего ощутить себя взрослым.
В нашем городе сложно найти более яркий материальный результат коллективной воли горожан. Небоскреб хотели построить в центре, на Охтинском мысу: планам Газпрома и губернатора тогда помешало яростное противодействие объединившихся народных масс и элиты. Та победа сделала грозозащитное движение еще одной ветвью власти в городе. Перенесенный на окраину Лахта-центр — это охотничий трофей, прибитая голова на стене гражданского общества.
В ДНК петербургской архитектуры — проекты иностранцев Трезини, Леблона, Росси, большинство же имен реальных первостроителей и проектировщиков стёрто из исторической памяти. Так и за формами башни закреплено авторство британца — Тони Кэттл из бюро RMJM. Российский коллега Филипп Никандров скромно прячется в его тени. Лахта-центр — это финский фейри, который, как известно любому петербуржцу, более густой, даже если был сделан на одном заводе с российским.
Со старой охтинской площадки архитектура башни позаимствовала пятиугольную форму шведской крепости Ниеншанц. Миф о Terra nullius и его отрицание лежат в основе шизофренического петербургского самосознания: город основан на болоте, где никого не было, но мы героически прогнали отсюда шведов. Также парадоксален и Лахта-центр: здание-манифест глобализации, которое могло быть построено где угодно — в основании своём глубоко контекстуально.
Наконец, высотный регламент — в основе петербургской онтологии. Ангел со шпиля Петропавловского собора бережёт Петербург до тех пор, пока парит над городом: запрет строить выше этой отметки существует в головах людей, и неважно, что его никогда не было на бумаге. Все наши беды последних лет можно было бы списать на нарушение Лахта-центром этого табу, если бы не одно но: под самым шпилем небоскреба, на 88 этаже построили скульптуру нового ангела с крестом. Защитник просто перебрался повыше!
Другая легенда гласит, что Санкт-Петербург охраняют три ангела: золотой — на шпиле Петропавловского собора; серебряный — на куполе церкви Святой Екатерины у Тучкова моста; бронзовый — на верхней части Александровской колонны. Лахта-центр дал городу четвертого хранителя: пластикового! А на четырёх ногах стоять крепче — значит, впереди еще много годовщин!
__
Мой родной город отмечает сегодня свой день! В честь этого я хочу выступить с unpopular opinion: я обожаю Лахта-центр, и считаю, что это невероятно петербургский по духу проект.
***
Что может быть лучшим выражением комплекса провинциальности бывшей столицы, чем самый-высокий-небоскреб-Европы? Петербург никогда не был "good enough" в глазах его жителей: это наша милая попытка убедить самих себя в том, что мы — европейцы, в которой за снобизмом прячется неуверенность. Лахта-центр — это сигарета во рту подростка, желающего ощутить себя взрослым.
В нашем городе сложно найти более яркий материальный результат коллективной воли горожан. Небоскреб хотели построить в центре, на Охтинском мысу: планам Газпрома и губернатора тогда помешало яростное противодействие объединившихся народных масс и элиты. Та победа сделала грозозащитное движение еще одной ветвью власти в городе. Перенесенный на окраину Лахта-центр — это охотничий трофей, прибитая голова на стене гражданского общества.
В ДНК петербургской архитектуры — проекты иностранцев Трезини, Леблона, Росси, большинство же имен реальных первостроителей и проектировщиков стёрто из исторической памяти. Так и за формами башни закреплено авторство британца — Тони Кэттл из бюро RMJM. Российский коллега Филипп Никандров скромно прячется в его тени. Лахта-центр — это финский фейри, который, как известно любому петербуржцу, более густой, даже если был сделан на одном заводе с российским.
Со старой охтинской площадки архитектура башни позаимствовала пятиугольную форму шведской крепости Ниеншанц. Миф о Terra nullius и его отрицание лежат в основе шизофренического петербургского самосознания: город основан на болоте, где никого не было, но мы героически прогнали отсюда шведов. Также парадоксален и Лахта-центр: здание-манифест глобализации, которое могло быть построено где угодно — в основании своём глубоко контекстуально.
Наконец, высотный регламент — в основе петербургской онтологии. Ангел со шпиля Петропавловского собора бережёт Петербург до тех пор, пока парит над городом: запрет строить выше этой отметки существует в головах людей, и неважно, что его никогда не было на бумаге. Все наши беды последних лет можно было бы списать на нарушение Лахта-центром этого табу, если бы не одно но: под самым шпилем небоскреба, на 88 этаже построили скульптуру нового ангела с крестом. Защитник просто перебрался повыше!
Другая легенда гласит, что Санкт-Петербург охраняют три ангела: золотой — на шпиле Петропавловского собора; серебряный — на куполе церкви Святой Екатерины у Тучкова моста; бронзовый — на верхней части Александровской колонны. Лахта-центр дал городу четвертого хранителя: пластикового! А на четырёх ногах стоять крепче — значит, впереди еще много годовщин!
Петребургизация Петербурга. Мои поздравления Лахта-центру и его городу
__
Мой родной город отмечает сегодня свой день! В честь этого я хочу выступить с unpopular opinion: я обожаю Лахта-центр, и считаю, что это невероятно петербургский по духу проект.
***
Что может быть лучшим выражением комплекса провинциальности бывшей столицы, чем самый-высокий-небоскреб-Европы? Петербург никогда не был "good enough" в глазах его жителей: это наша милая попытка убедить самих себя в том, что мы — европейцы, в которой за снобизмом прячется неуверенность. Лахта-центр — это сигарета во рту подростка, желающего ощутить себя взрослым.
В нашем городе сложно найти более яркий материальный результат коллективной воли горожан. Небоскреб хотели построить в центре, на Охтинском мысу: планам Газпрома и губернатора тогда помешало яростное противодействие объединившихся народных масс и элиты. Та победа сделала грозозащитное движение еще одной ветвью власти в городе. Перенесенный на окраину Лахта-центр — это охотничий трофей, прибитая голова на стене гражданского общества.
В ДНК петербургской архитектуры — проекты иностранцев Трезини, Леблона, Росси, большинство же имен реальных первостроителей и проектировщиков стёрто из исторической памяти. Так и за формами башни закреплено авторство британца — Тони Кэттл из бюро RMJM. Российский коллега Филипп Никандров скромно прячется в его тени. Лахта-центр — это финский фейри, который, как известно любому петербуржцу, более густой, даже если был сделан на одном заводе с российским.
Со старой охтинской площадки архитектура башни позаимствовала пятиугольную форму шведской крепости Ниеншанц. Миф о Terra nullius и его отрицание лежат в основе шизофренического петербургского самосознания: город основан на болоте, где никого не было, но мы героически прогнали отсюда шведов. Также парадоксален и Лахта-центр: здание-манифест глобализации, которое могло быть построено где угодно — в основании своём глубоко контекстуально.
Наконец, высотный регламент — в основе петербургской онтологии. Ангел со шпиля Петропавловского собора бережёт Петербург до тех пор, пока парит над городом: запрет строить выше этой отметки существует в головах людей, и неважно, что его никогда не было на бумаге. Все наши беды последних лет можно было бы списать на нарушение Лахта-центром этого табу, если бы не одно но: под самым шпилем небоскреба, на 88 этаже построили скульптуру нового ангела с крестом. Защитник просто перебрался повыше!
Другая легенда гласит, что Санкт-Петербург охраняют три ангела: золотой — на шпиле Петропавловского собора; серебряный — на куполе церкви Святой Екатерины у Тучкова моста; бронзовый — на верхней части Александровской колонны. Лахта-центр дал городу четвертого хранителя: пластикового! А на четырёх ногах стоять крепче — значит, впереди еще много годовщин!
__
Мой родной город отмечает сегодня свой день! В честь этого я хочу выступить с unpopular opinion: я обожаю Лахта-центр, и считаю, что это невероятно петербургский по духу проект.
***
Что может быть лучшим выражением комплекса провинциальности бывшей столицы, чем самый-высокий-небоскреб-Европы? Петербург никогда не был "good enough" в глазах его жителей: это наша милая попытка убедить самих себя в том, что мы — европейцы, в которой за снобизмом прячется неуверенность. Лахта-центр — это сигарета во рту подростка, желающего ощутить себя взрослым.
В нашем городе сложно найти более яркий материальный результат коллективной воли горожан. Небоскреб хотели построить в центре, на Охтинском мысу: планам Газпрома и губернатора тогда помешало яростное противодействие объединившихся народных масс и элиты. Та победа сделала грозозащитное движение еще одной ветвью власти в городе. Перенесенный на окраину Лахта-центр — это охотничий трофей, прибитая голова на стене гражданского общества.
В ДНК петербургской архитектуры — проекты иностранцев Трезини, Леблона, Росси, большинство же имен реальных первостроителей и проектировщиков стёрто из исторической памяти. Так и за формами башни закреплено авторство британца — Тони Кэттл из бюро RMJM. Российский коллега Филипп Никандров скромно прячется в его тени. Лахта-центр — это финский фейри, который, как известно любому петербуржцу, более густой, даже если был сделан на одном заводе с российским.
Со старой охтинской площадки архитектура башни позаимствовала пятиугольную форму шведской крепости Ниеншанц. Миф о Terra nullius и его отрицание лежат в основе шизофренического петербургского самосознания: город основан на болоте, где никого не было, но мы героически прогнали отсюда шведов. Также парадоксален и Лахта-центр: здание-манифест глобализации, которое могло быть построено где угодно — в основании своём глубоко контекстуально.
Наконец, высотный регламент — в основе петербургской онтологии. Ангел со шпиля Петропавловского собора бережёт Петербург до тех пор, пока парит над городом: запрет строить выше этой отметки существует в головах людей, и неважно, что его никогда не было на бумаге. Все наши беды последних лет можно было бы списать на нарушение Лахта-центром этого табу, если бы не одно но: под самым шпилем небоскреба, на 88 этаже построили скульптуру нового ангела с крестом. Защитник просто перебрался повыше!
Другая легенда гласит, что Санкт-Петербург охраняют три ангела: золотой — на шпиле Петропавловского собора; серебряный — на куполе церкви Святой Екатерины у Тучкова моста; бронзовый — на верхней части Александровской колонны. Лахта-центр дал городу четвертого хранителя: пластикового! А на четырёх ногах стоять крепче — значит, впереди еще много годовщин!
8890
21:04
27.05.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Кем я стал, когда вырос: чем занимается и на кого похож архитектурный антрополог?
_
Простите, что долго не постил — защищал диссертацию: теперь я с дипломом! Хороший повод, чтобы наконец ответить на вопрос: «хто я?» Хочу себя называть архитектурным антропологом. Попробую (сам для себя) объяснить, чем я могу/хочу заниматься.
1) Прикладная антропология, или этнография для архитекторов.
2) Антропология архитектуры.
3) Антропология архитекторов.
4) Антропология города (и села).
5) Архитектурная антропология.
Родоначальником дисциплины можно считать сэра Патрика Геддеса. Он известен как создатель мастер-плана Тель-Авива, но вообще-то он был архитектурным антропологом, хотя сам так себя не называл. В 1892 году он приобрёл старую башню в центре Эдинбурга и сделал в ней свой гениальный инструмент — социальную обсерваторию, или The Outlook Tower.
Наверху башни расположилась камера-обскура, которая фокусировалась на разных районах города и проецировала изображение на стол. Каждый из шести нижних этажей имел тематическую музейную экспозицию о городе, Шотландии, англоязычном мире, Европе и планете.
Благодаря школьной программе по литературе нам несложно представить, как выглядели европейские города индустриализации XIX века. Труднее — вообразить, что чувствовали и говорили состоятельные жители Эдинбурга, которых Геддес гнал на 7-й этаж по лестнице и, не давая им отдышаться, просил изучать real-time изображение сегрегированных районов вилл и рабочих трущоб — и комментировать увиденное. Как менялись их нарративы о городе, когда они спускались вниз, пройдя через каждый "этаж мироздания"? Наконец, чем их рассказы отличались от того, что можно было услышать от бедняка, прошедшего этим же маршрутом? А что будет, если пойти не сверху вниз, а в обратном направлении?
Спустя 10 лет на основе наблюдений Патрик Геддес написал свой трактат Civics, «граждановедение», в котором провозгласил прорывные градостроительные идеи.
*
Stender M., Hagen A. L.. Architectural anthropology: exploring lived space. – Routledge, 2021.
Burton N., Fraser H. Mirror Visions and Dissolving Views: Experiments of Patrick Geddes. – 2006.
Geddes. Civics: as applied sociology //The Sociological Review. – 1904.
_
Простите, что долго не постил — защищал диссертацию: теперь я с дипломом! Хороший повод, чтобы наконец ответить на вопрос: «хто я?» Хочу себя называть архитектурным антропологом. Попробую (сам для себя) объяснить, чем я могу/хочу заниматься.
1) Прикладная антропология, или этнография для архитекторов.
Её задача — собрать данные о том, как люди используют пространство (или говорят о нём), чтобы сделать более привычные/удобные для пользователя проекты (или, скорее, чтобы архитекторы могли успешнее продать свой проект людям:).
2) Антропология архитектуры.
Её цель — сделать вывод о социальных процессах или даже устройстве общества по тем зданиям, которые его члены строят и в которых живут. И наоборот — как произведённая обществом материальность влияет на отношения в нём (это, правда, чаще называют антропологией инфраструктуры).
3) Антропология архитекторов.
Её задача — понять, как устроена индустрия строительства глазами её участников. Чтобы связать различные практики, убеждения и отношения в профессиональном сообществе с теми результатами, которые оно производит.
4) Антропология города (и села).
Изучает повседневные взаимодействия людей в среде и то, как в ходе этих отношений они наполняют свою реальность смыслом, чтобы понять, как разные люди умудряются жить вместе и (не)формировать сообщество: конфликтуя, но и договариваясь.
5) Архитектурная антропология.
Это — самая интересная мне область. Тут исследуется непрекращающийся процесс обживания: взаимодействия между людьми, материалами, временем и пространством, в которых формируется обитаемый мир. Здания здесь выступают не просто ареной, застывшей пространственной проекцией культуры и политики, как для антропологии архитектуры, но сами по себе являются отношениями.***
Цель — разгадать те неявные правила и договорённости, которые поддерживают в этих отношениях хрупкий баланс. А это можно сделать только, приняв в них личное участие.
Родоначальником дисциплины можно считать сэра Патрика Геддеса. Он известен как создатель мастер-плана Тель-Авива, но вообще-то он был архитектурным антропологом, хотя сам так себя не называл. В 1892 году он приобрёл старую башню в центре Эдинбурга и сделал в ней свой гениальный инструмент — социальную обсерваторию, или The Outlook Tower.
Наверху башни расположилась камера-обскура, которая фокусировалась на разных районах города и проецировала изображение на стол. Каждый из шести нижних этажей имел тематическую музейную экспозицию о городе, Шотландии, англоязычном мире, Европе и планете.
Благодаря школьной программе по литературе нам несложно представить, как выглядели европейские города индустриализации XIX века. Труднее — вообразить, что чувствовали и говорили состоятельные жители Эдинбурга, которых Геддес гнал на 7-й этаж по лестнице и, не давая им отдышаться, просил изучать real-time изображение сегрегированных районов вилл и рабочих трущоб — и комментировать увиденное. Как менялись их нарративы о городе, когда они спускались вниз, пройдя через каждый "этаж мироздания"? Наконец, чем их рассказы отличались от того, что можно было услышать от бедняка, прошедшего этим же маршрутом? А что будет, если пойти не сверху вниз, а в обратном направлении?
Спустя 10 лет на основе наблюдений Патрик Геддес написал свой трактат Civics, «граждановедение», в котором провозгласил прорывные градостроительные идеи.
Примерно так и работает архитектурный антрополог: здание в его руках становится провокатором, участником социального эксперимента. Это совершенно не обязательно должна быть башня — подойдёт и простенький чукотский коттедж. Что-то такое буду делать, о чём-то таком и буду писать. А вам спасибо, что вы со мной!Но главное — он впервые использовал архитектуру как инструмент исследования человека.
*
Stender M., Hagen A. L.. Architectural anthropology: exploring lived space. – Routledge, 2021.
Burton N., Fraser H. Mirror Visions and Dissolving Views: Experiments of Patrick Geddes. – 2006.
Geddes. Civics: as applied sociology //The Sociological Review. – 1904.
Кем я стал, когда вырос: чем занимается и на кого похож архитектурный антрополог?
_
Простите, что долго не постил — защищал диссертацию: теперь я с дипломом! Хороший повод, чтобы наконец ответить на вопрос: «хто я?» Хочу себя называть архитектурным антропологом. Попробую (сам для себя) объяснить, чем я могу/хочу заниматься.
1) Прикладная антропология, или этнография для архитекторов.
2) Антропология архитектуры.
3) Антропология архитекторов.
4) Антропология города (и села).
5) Архитектурная антропология.
Родоначальником дисциплины можно считать сэра Патрика Геддеса. Он известен как создатель мастер-плана Тель-Авива, но вообще-то он был архитектурным антропологом, хотя сам так себя не называл. В 1892 году он приобрёл старую башню в центре Эдинбурга и сделал в ней свой гениальный инструмент — социальную обсерваторию, или The Outlook Tower.
Наверху башни расположилась камера-обскура, которая фокусировалась на разных районах города и проецировала изображение на стол. Каждый из шести нижних этажей имел тематическую музейную экспозицию о городе, Шотландии, англоязычном мире, Европе и планете.
Благодаря школьной программе по литературе нам несложно представить, как выглядели европейские города индустриализации XIX века. Труднее — вообразить, что чувствовали и говорили состоятельные жители Эдинбурга, которых Геддес гнал на 7-й этаж по лестнице и, не давая им отдышаться, просил изучать real-time изображение сегрегированных районов вилл и рабочих трущоб — и комментировать увиденное. Как менялись их нарративы о городе, когда они спускались вниз, пройдя через каждый "этаж мироздания"? Наконец, чем их рассказы отличались от того, что можно было услышать от бедняка, прошедшего этим же маршрутом? А что будет, если пойти не сверху вниз, а в обратном направлении?
Спустя 10 лет на основе наблюдений Патрик Геддес написал свой трактат Civics, «граждановедение», в котором провозгласил прорывные градостроительные идеи.
*
Stender M., Hagen A. L.. Architectural anthropology: exploring lived space. – Routledge, 2021.
Burton N., Fraser H. Mirror Visions and Dissolving Views: Experiments of Patrick Geddes. – 2006.
Geddes. Civics: as applied sociology //The Sociological Review. – 1904.
_
Простите, что долго не постил — защищал диссертацию: теперь я с дипломом! Хороший повод, чтобы наконец ответить на вопрос: «хто я?» Хочу себя называть архитектурным антропологом. Попробую (сам для себя) объяснить, чем я могу/хочу заниматься.
1) Прикладная антропология, или этнография для архитекторов.
Её задача — собрать данные о том, как люди используют пространство (или говорят о нём), чтобы сделать более привычные/удобные для пользователя проекты (или, скорее, чтобы архитекторы могли успешнее продать свой проект людям:).
2) Антропология архитектуры.
Её цель — сделать вывод о социальных процессах или даже устройстве общества по тем зданиям, которые его члены строят и в которых живут. И наоборот — как произведённая обществом материальность влияет на отношения в нём (это, правда, чаще называют антропологией инфраструктуры).
3) Антропология архитекторов.
Её задача — понять, как устроена индустрия строительства глазами её участников. Чтобы связать различные практики, убеждения и отношения в профессиональном сообществе с теми результатами, которые оно производит.
4) Антропология города (и села).
Изучает повседневные взаимодействия людей в среде и то, как в ходе этих отношений они наполняют свою реальность смыслом, чтобы понять, как разные люди умудряются жить вместе и (не)формировать сообщество: конфликтуя, но и договариваясь.
5) Архитектурная антропология.
Это — самая интересная мне область. Тут исследуется непрекращающийся процесс обживания: взаимодействия между людьми, материалами, временем и пространством, в которых формируется обитаемый мир. Здания здесь выступают не просто ареной, застывшей пространственной проекцией культуры и политики, как для антропологии архитектуры, но сами по себе являются отношениями.***
Цель — разгадать те неявные правила и договорённости, которые поддерживают в этих отношениях хрупкий баланс. А это можно сделать только, приняв в них личное участие.
Родоначальником дисциплины можно считать сэра Патрика Геддеса. Он известен как создатель мастер-плана Тель-Авива, но вообще-то он был архитектурным антропологом, хотя сам так себя не называл. В 1892 году он приобрёл старую башню в центре Эдинбурга и сделал в ней свой гениальный инструмент — социальную обсерваторию, или The Outlook Tower.
Наверху башни расположилась камера-обскура, которая фокусировалась на разных районах города и проецировала изображение на стол. Каждый из шести нижних этажей имел тематическую музейную экспозицию о городе, Шотландии, англоязычном мире, Европе и планете.
Благодаря школьной программе по литературе нам несложно представить, как выглядели европейские города индустриализации XIX века. Труднее — вообразить, что чувствовали и говорили состоятельные жители Эдинбурга, которых Геддес гнал на 7-й этаж по лестнице и, не давая им отдышаться, просил изучать real-time изображение сегрегированных районов вилл и рабочих трущоб — и комментировать увиденное. Как менялись их нарративы о городе, когда они спускались вниз, пройдя через каждый "этаж мироздания"? Наконец, чем их рассказы отличались от того, что можно было услышать от бедняка, прошедшего этим же маршрутом? А что будет, если пойти не сверху вниз, а в обратном направлении?
Спустя 10 лет на основе наблюдений Патрик Геддес написал свой трактат Civics, «граждановедение», в котором провозгласил прорывные градостроительные идеи.
Примерно так и работает архитектурный антрополог: здание в его руках становится провокатором, участником социального эксперимента. Это совершенно не обязательно должна быть башня — подойдёт и простенький чукотский коттедж. Что-то такое буду делать, о чём-то таком и буду писать. А вам спасибо, что вы со мной!Но главное — он впервые использовал архитектуру как инструмент исследования человека.
*
Stender M., Hagen A. L.. Architectural anthropology: exploring lived space. – Routledge, 2021.
Burton N., Fraser H. Mirror Visions and Dissolving Views: Experiments of Patrick Geddes. – 2006.
Geddes. Civics: as applied sociology //The Sociological Review. – 1904.
7000
20:32
03.07.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Чукоткое поле core
В этом году Гавриил Малышев написал и успешно защитил в ЕУ магистерскую, посвященную реновации национальных сёл на Чукотке в 2000-е годы. Я нарисовала✨ core его поля цветными карандашами. Сама я на Чукотке не была, но старалась воссоздать все в точности по рассказам и фотографиям Гавра. Что-то добавила от себя:)
🔹во время своего губернаторства на Чукотке, Роман Абрамович переселял чукч и эскимосов в канадские коттеджи. Я изобразила упрощенную эволюцию жилища: традиционная яранга, домик Свиньина и канадский коттедж.
🔹одноместная школьная парта как в Америке – тоже привез Абрамович.
🔸в 2000-е начали цветасто раскрашивать Анадырские хрущевки, чтобы серый город стал веселее, а ЖКХ отчитывалось о какой-то деятельности... Дома стоят на сваях из-за мерзлоты.
🔹несмотря на мерзлоту, в Анадыре высаживают деревья! И они растут!🌳🌲
🔹толпа людей пытается сесть на кораблик капитан Сотников, чтобы добраться до других мест Чукотки. Наличие билета ничего не гарантирует – можно ждать посадки на корабль или вертолет неделями…
🔹…если не получается на них сесть, поможет разве что вездеход Трэкол.
🔹Режиссёр Алексей Вахрушев воссоздает эскимосское поселение! Добраться можно из Эгвекинота.
🔹китовое кладбище
🔹юкола – сушенно-вяленная рыба, которую высушивают на ветру.
🔹чукотский салат Килыкил (ягода, рыба, зелень, жир нерпы).
🔹маленькая нерпа!
🔹специальная палочка, чтобы отряхивать снег с одежды после улицы.
🔹эскимосские мячи (ан'ка'ак) наверху картины. Сегодня эскимосы подвешивают их как гирлянду в коттеджах.
🔹талисман Пеликен! А точнее Билли Кен из США, который вешали в машинах в XX веке😃 Но какое-то время исследователи считали, что это древний чукотский и эскимосский тотем… Через Аляску он попал на Чукотку, где очень приглянулся местным и его начали повторять косторезы. Название Билли Кен было адаптировано под чукотский, где нет звонкой Б, и превратилось в Пеликена.
🔹Ничего удивительного, ведь самое маленькое расстояние между США и Россией находится между островами Диомида – около 4 км😱
🌝 Посылка из Золотого яблока доберется даже до края земли, Гавр реально видел кислотные коробки в далеких селах… Глобализация, развитая логистика и универсализация желания при позднем капитализме…
Остальное пусть останется тайной, или можно уточнить у меня и Гавра в комментарии😌
В этом году Гавриил Малышев написал и успешно защитил в ЕУ магистерскую, посвященную реновации национальных сёл на Чукотке в 2000-е годы. Я нарисовала
🔹во время своего губернаторства на Чукотке, Роман Абрамович переселял чукч и эскимосов в канадские коттеджи. Я изобразила упрощенную эволюцию жилища: традиционная яранга, домик Свиньина и канадский коттедж.
🔹одноместная школьная парта как в Америке – тоже привез Абрамович.
🔸в 2000-е начали цветасто раскрашивать Анадырские хрущевки, чтобы серый город стал веселее, а ЖКХ отчитывалось о какой-то деятельности... Дома стоят на сваях из-за мерзлоты.
🔹несмотря на мерзлоту, в Анадыре высаживают деревья! И они растут!🌳🌲
🔹толпа людей пытается сесть на кораблик капитан Сотников, чтобы добраться до других мест Чукотки. Наличие билета ничего не гарантирует – можно ждать посадки на корабль или вертолет неделями…
🔹…если не получается на них сесть, поможет разве что вездеход Трэкол.
🔹Режиссёр Алексей Вахрушев воссоздает эскимосское поселение! Добраться можно из Эгвекинота.
🔹китовое кладбище
🔹юкола – сушенно-вяленная рыба, которую высушивают на ветру.
🔹чукотский салат Килыкил (ягода, рыба, зелень, жир нерпы).
🔹маленькая нерпа!
🔹специальная палочка, чтобы отряхивать снег с одежды после улицы.
🔹эскимосские мячи (ан'ка'ак) наверху картины. Сегодня эскимосы подвешивают их как гирлянду в коттеджах.
🔹талисман Пеликен! А точнее Билли Кен из США, который вешали в машинах в XX веке😃 Но какое-то время исследователи считали, что это древний чукотский и эскимосский тотем… Через Аляску он попал на Чукотку, где очень приглянулся местным и его начали повторять косторезы. Название Билли Кен было адаптировано под чукотский, где нет звонкой Б, и превратилось в Пеликена.
🔹Ничего удивительного, ведь самое маленькое расстояние между США и Россией находится между островами Диомида – около 4 км😱
Остальное пусть останется тайной, или можно уточнить у меня и Гавра в комментарии😌
695
18:44
13.07.2025
close
Отзывы канала
Отзывов нет
Лучшие в тематике
Новинки в тематике
Статистика канала
Рейтинг
7.1
Оценка отзывов
0.0
Выполнено заявок
0
Подписчики:
2.6K
Просмотры на пост:
lock_outline
ER:
--%
Публикаций в день:
0.0
CPV
lock_outlineВыбрано
0
каналов на сумму:0.00₽
Подписчики:
0
Просмотры:
lock_outline
Перейти в корзинуКупить за:0.00₽
Комментарий